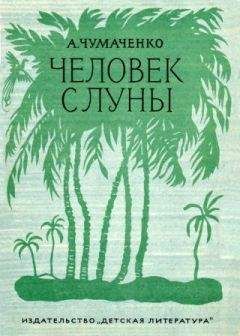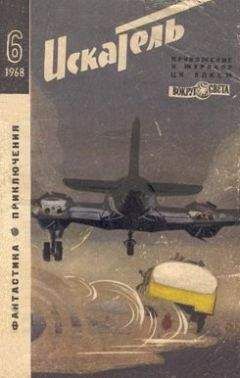— Дым! Дым!
— Ульсон, проснитесь! В море корабль!
С грохотом летит какой-то ящик. Звякает опрокинутый стакан. Опухший от сна Ульсон в одном бельё выскакивает навстречу Маклаю:
— Корабль? Вы говорите — корабль? Это за нами?
— Не знаю. Может быть, и нет! Но мы всё равно должны его встретить!
— Корабль!.
Ульсон хохочет. Ульсон поёт. Ульсон вдруг переворачивается вниз головой и лихо обходит на руках всю маленькую площадку перед хижиной.
— Ульсон, нельзя терять время. Мы должны поднять флаг, переодеться, взять письма и выехать в лодке навстречу судну.
— Навстречу судну! Судну!
Ульсон от радости не может говорить. Он делает пируэт, хлопает босыми пятками, щёлкает пальцами, показывает язык морю и бежит одеваться.
Маклай поднимает флаг. Большое полотнище послушно скользит по верёвке вверх. Лёгкий ветер разворачивает его. Оно бьётся и пытается лететь, совсем как привязанная птица.
Маклай идёт в комнату, чтобы переодеться. Перевёрнутый чемодан лежит пустой и смятый.
— А переодеваться-то и не во что, — смеётся Маклай. — Как это я забыл, что у меня теперь нет даже запасной рубашки! Ну не беда.
Он берёт щётку и тщательно чистит ею башмаки. Голые пальцы недовольно шевелятся. Ну и башмаки!
Ульсон выходит из-за перегородки сияющий и великолепный. На нём полосатый галстук, прощальный подарок жены, на рукавах — медные запонки; мягкая шляпа сдвинута чуть-чуть набок. От него даже, кажется, пахнет одеколоном.
— Укладывать вещи? — спрашивает он. Маклай смотрит на него.
— Ваши — да! — медленно говорит он, чуть-чуть помолчав.
— А ваши?
— А мой пока не надо.
— Вы хотите оставить всё это папуасам?
— Я ещё не знаю. Может быть, я ещё останусь здесь и сам.
- Здесь? Ещё?!
Ульсон снимает шляпу и в изнеможении обмахивается ею. Он ничего, он буквально ничего не понимает. Но Маклай не даёт ему времени на размышления.
— Идёмте в лодку, — торопит он его. — Я сговорился с Саулом и Дягусли. Они отвезут нас к кораблю.
Ульсон в последний раз обходит хижину. Нет, он ничего не забыл. Портрет жены в оборках и с бантами уложен. Бритвенный прибор, мыльница с венком незабудок и надписью: «Воспоминание о Мальме» — тоже уже в чемодане.
— Я готов, — говорит он.
…Лодка идёт быстро и уверенно. Теперь уже видно и всё судно. Виден русский флаг. Вдоль борта — надпись знакомыми буквами: «Изумруд».
Маклай опускает бинокль. Корабль растёт всё больше и больше. На реях матросы машут бескозырками. Ленточки взлетают по ветру.
Папуасы в лодке перестают грести. Они испуганно смотрят друг на друга, на Маклая.
— Сколько людей! — говорят они. — Сколько тамо-русс! На этой лодке людей больше, чем во всей Горенду. Мы не хотим плыть дальше, Маклай!
— Не бойтесь! Я же с вами!
— Нет, мы боимся, Маклай!
Матросы на реях громко кричат «ура». Гремят медные трубы духового оркестра.
Маклая узнали! Маклая приветствуют!
Папуасы дрожат всем телом и затыкают уши руками. Выроненные вёсла уносит течение.
— Что вы делаете?! — кричит Маклай.
Но папуасы не слушают его. Они взмахивают руками над головой и прыгают в море. Тёмные руки быстро рассекают воду. Они плывут к берегу. Их курчавые головы в перьях скачут по волнам, как мячи.
С «Изумруда» бросают канат.
Маклай и Ульсон с усилием подтягивают лодку к борту корабля.
Ещё оглушительней гремят трубы. Ещё громче раздаётся троекратное «ура». Десятки рук протягиваются к Маклаю и Ульсону, десятки рук помогают им подняться на борт.
И вот под ногами уже палуба. Блестят надраенные поручни. На стекле капитанской рубки мерно колышутся отсветы моря и солнца.
Кто-то жмёт руку. Кто-то обнимает Маклая. Чья-то выбритая, ещё по-утреннему пахнущая мылом щека прижимается к его лицу.
— Николай Николаевич! Голубчик! Наконец-то!
— Простите, Николай Николаевич, но я чего-то не понимаю. Вы не хотите ехать с нами?
— Я думаю, что мне следует остаться здесь.
— Погодите, погодите! Давайте говорить толком. Сколько времени вы пробыли на острове?
— Пятнадцать месяцев.
— Пятнадцать месяцев! И этого вам ещё мало?
— Мне хочется собрать побольше материалов и, кроме того…
— Ну, что же ещё? Говорите, Николай Николаевич!
— …и, кроме того, папуасы очень привязались ко мне.
— Хорошенькое основание для смерти от лихорадки. Да на вас ведь лица нет, Николай Николаевич! Вы знаете, мы даже не сразу узнали вас. Худой, жёлтый, с ввалившимися глазами. Краше в гроб кладут, как говорится.
— Это ничего. Вы оставите мне хинина, и с меня этого будет достаточно. Вот Ульсона вам следует взять непременно. Мне иногда казалось, что он начинает сходить с ума.
— И совершенно естественно. Я бы тоже, наверно, сошёл с ума!
— Уверен, что нет. Но об этом потом. Давайте договоримся окончательно. Вы мне оставите хинина, немного провизии, бумаги… Хорошо, если найдётся пара рубах и штанов. И башмаки. Башмаки мне нужны непременно.
— И, значит, снова на год?
— До нового парохода. Может быть, и больше чем на год.
— Безумие! Чистейшее безумие! Будь я проклят, если приложу к этому руку! Ни хинина, ни башмаков, ни сухарей. Вы едете с нами, Николай Николаевич.
— Вы просто шутите, капитан. Не будете же вы увозить меня насильно?
— Нет, конечно, нет! И хинина я вам оставлю тоже сколько хотите. Но вы должны ещё подумать.
— Я думаю.
— Вы на меня не сердитесь, голубчик, но я тоже вроде вашего Ульсона. Ну что вы находите хорошего у этих дикарей?
— Да, это совсем как мой Ульсон… Скажите, капитан, вы когда-нибудь рубили дерево каменным топором?
— Я? Каменным топором? Чего ради?
— Ну, а если бы вам пришлось это делать, как вы думаете, легко бы вам это было?
— Дерево? Каменным топором? А чёрт его знает! Должно быть, не очень!
— А если бы вам пришлось сделать из кокосового ореха красивый, по-настоящему красивый сосуд, с тонким узором, с затейливым рисунком? И тоже без ножа, без лобзика, без токарного станка, одной костью да отточенной раковиной. Сделали бы вы его?
— Нет! Думаю, что нет!
— А как вы думаете, если бы в вашем доме, в вашем большом многоэтажном петербургском доме, заболел кто-нибудь совсем для вас чужой — не ваш сын, не ваш брат, не ваш друг даже, — бросили бы вы все свой дела, чтобы сидеть у его кровати, бинтовать его раны, давать лекарство…
— Ну, если бы было время…
— Ага, вот-вот! Если бы было время! А дикари папуасы делают это, ни о чём не раздумывая… Каменным топором они строят себе хижины, отточенной костью они украшают свою посуду и оружие, из простых травинок они плетут браслеты, которым позавидует любая модница. Вы говорите «дикари»… А дайте этим дикарям стальную пилу, дайте им ткацкий станок, дайте им в помощь лошадь или осла, корову для их детей, доктора для их больных, и вы увидите, какие это будут люди!
— Николай Николаевич, дорогой! Да вы, кажется, сердитесь на меня?
— Нет, капитан, я не сержусь. Я просто хочу, чтобы вы знали, о чём вы говорите. Вы знаете, о чём я мечтаю, капитан?
— Ну, ну…
— Я мечтаю, чтобы этот берег назвали берегом Маклая. Я мечтаю создать здесь колонию настоящих людей. Я мечтаю уговорить тех, кого я уважаю и ценю, поселиться со мной на этом берегу. Мы привезли бы с собой плуги, кирки, лопаты. Мы привезли бы с собой домашних животных, семена и лекарства. Мы научили бы папуасов пользоваться всем этим. Мы доказали бы, что белые люди не всегда только хищники и хозяева. И что это был бы за чудесный край, капитан!
— А ведь не плохая мысль, Николай Николаевич!
— Ну вот! А вы смотрите на меня, как на сумасшедшего!
— Зачем вы так?
— Ну, как на чудака, всё равно! А чудак хочет только одного: помочь народу, который этого стоит.
— Значит, вам надо ехать с нами.
— Почему?
— Потому что только вы сумеете уговорить тех, кого вы хотите уговорить. Не я же сделаю это! А вы и ваши доклады…
— Да, доклад мне следовало бы сделать.
— Значит, вы согласны со мной! А к тому же вы ведь едва стойте на ногах. Поедем с нами. «Изумруд» отвезёт вас в Европу. Вы окрепнете и отдохнёте. Вы соберёте людей и деньги, и тогда уж за дело — обратно на Новую Гвинею!
— А пожалуй, вы и правы, капитан.
— Значит, решено?
— Не знаю. Я подумаю. Подождём до завтра.
— Хорошо, подождём до завтра.
Папуасы сидели на поваленных деревьях возле хижины Маклая и молчали. Лица их были печальны, глаза опущены в землю. Некоторые, вздыхая, раскачивались из стороны в сторону, как на похоронах, когда тело умершего в лёгком гробу из пальмовых листьев поднимают в его последнее жилище, на перекладины под крышей в его же хижине.
![Ада Чумаченко - Человек с луны[Рис. П. Староносова ]](https://cdn.my-library.info/books/201046/201046.jpg)
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](https://cdn.my-library.info/books/195789/195789.jpg)